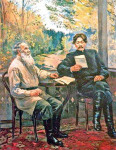В европейский День языков британская газета Guardian выяснила, что лидеры Европы не могут похвастаться выдающимся их знанием. Высокую оценку издания заслужил Владимир Путин — как за запоминающиеся выступления на русском, так и за свободное владение немецким. Ангела Меркель на его фоне выглядит бледно, а у лидеров ведущих партий Британии вообще с языками плохо, комментирует издание.
В честь европейского Дня языков британская газета Guardian решила взглянуть, каким образом ведущие политики пользуются своей речью — как дома, так и на международной арене. В поле зрения издания попали немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и ряд британских политиков, но начинается обзор с российского лидера «Владимира Владимировича Путина».